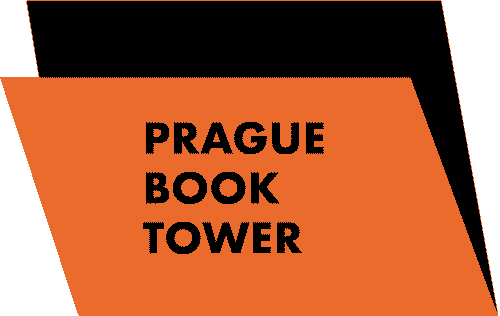Олег Лекманов
Аркадий Гайдар от «синих звезд» до «голубой чашки»
(1934 – 1936)
(1934 – 1936)
5
И все же очень трудно, почти невозможно представить себе такого читателя «Военной тайны», которому удалось бы вдоволь «посмеяться, похохотать», знакомясь с этой книгой. В ней веселье часто описывается и упоминается, а вот цели рассмешить детей и взрослых у Гайдара, если не считать двух или трех эпизодов, кажется, не было[1]. Зато задачу развеселить читателя, хотя, конечно, не только ее одну Гайдар точно решал, когда писал свою следующую после «Военной тайны» вещь – рассказ «Голубая чашка», датированный 1935 годом и напечатанный в 1 номере журнала «Пионер» за 1936 год[2].
[1] Среди немногих исключений «Военной тайны» сцены, в которых появляется смешной октябренок Карасиков.
[2] Из многочисленных работ о «Голубой чашке» здесь выделим две: Semenenko 2016: 43–51; Маслинская 2022: 369–377.
[2] Из многочисленных работ о «Голубой чашке» здесь выделим две: Semenenko 2016: 43–51; Маслинская 2022: 369–377.
Если читать «Военную тайну» и «Голубую чашку» подряд, то станет ясно, что написание рассказа, скорее всего, было для Гайдара актом своеобразной терапии после создания повести. Как мы помним, ростовским пионерам он признавался, что «порою рука отказывалась дописывать последние главы» «Военной тайны». Мир «Голубой чашки» – это идиллический, хотя отнюдь не бесконфликтный мир, и развязка у этого рассказа счастливая.
Как и в «Военной тайне», в центр «Голубой чашки» автор поместил дитя (которое совсем чуть-чуть старше шестилетнего Альки). Подобно «Четвертому блиндажу» «Голубая чашка» начинается с указания на возраст главных действующих лиц: «Мне тогда было тридцать два года, Марусе двадцать девять, а дочери нашей Светлане шесть с половиной» (Гайдар 1936: 3).
Однако роль шестилетнего ребенка в рассказе совершенно иная, чем Альки в повести.
В качестве первого шага обращу внимание на то, что именно присутствие в «Голубой чашке» «рыжеволосой толстой Светланы» (там же: 10) позволяет Гайдару часто смешить взрослого и маленького читателя. Пожалуй, не столько поступки, сколько уморительные реплики дочери рассказчика вызывают смех или, как минимум, умиленную читательскую улыбку. Иногда это бывают откровенные неправильности, а иногда совсем небольшие, едва заметные сдвиги общепринятых правил речи, или общепринятой логики:
Как и в «Военной тайне», в центр «Голубой чашки» автор поместил дитя (которое совсем чуть-чуть старше шестилетнего Альки). Подобно «Четвертому блиндажу» «Голубая чашка» начинается с указания на возраст главных действующих лиц: «Мне тогда было тридцать два года, Марусе двадцать девять, а дочери нашей Светлане шесть с половиной» (Гайдар 1936: 3).
Однако роль шестилетнего ребенка в рассказе совершенно иная, чем Альки в повести.
В качестве первого шага обращу внимание на то, что именно присутствие в «Голубой чашке» «рыжеволосой толстой Светланы» (там же: 10) позволяет Гайдару часто смешить взрослого и маленького читателя. Пожалуй, не столько поступки, сколько уморительные реплики дочери рассказчика вызывают смех или, как минимум, умиленную читательскую улыбку. Иногда это бывают откровенные неправильности, а иногда совсем небольшие, едва заметные сдвиги общепринятых правил речи, или общепринятой логики:
– Ишь ты, как козел скачет! – пробормотал Пашка. – А чем этот дурак над головой размахивает?
– Это не дурак. Это он мои сандалии тащит! – радостно закричала Светлана. (там же: 7) – [«Это не дурак» вместо «Он совсем не дурак, а это…»]
– Мне трава высокая, а я низкая, – приподнимаясь на цыпочках пожаловалась Светлана. – И я совсем не вижу (там же) – [«Мне трава высокая» вместо «Вокруг меня трава высокая, а я низкая»]
– Разбойница! – подхватывая Светлану, крикнул я. – А как ты на меня вчера смотрела, когда разлила чернила?
– Ну тогда ты меня за дверь выгнал, а выгнатые смотрят всегда сердито (там же: 14) – [«Выгнатые» вместо «выгнанные»]
– Это не дурак. Это он мои сандалии тащит! – радостно закричала Светлана. (там же: 7) – [«Это не дурак» вместо «Он совсем не дурак, а это…»]
– Мне трава высокая, а я низкая, – приподнимаясь на цыпочках пожаловалась Светлана. – И я совсем не вижу (там же) – [«Мне трава высокая» вместо «Вокруг меня трава высокая, а я низкая»]
– Разбойница! – подхватывая Светлану, крикнул я. – А как ты на меня вчера смотрела, когда разлила чернила?
– Ну тогда ты меня за дверь выгнал, а выгнатые смотрят всегда сердито (там же: 14) – [«Выгнатые» вместо «выгнанные»]
Особо отмечу Светланину реплику, относящуюся к четырехлетнему (там же: 14) мальчику Федору, который разгуливает по дачному участку «только в одной рубашке, а перепачканные глиной мокрые штаны» его валяются на траве (там же: 12): «– Ишь какой важный, – неодобрительно заметила Светлана, – снял штаны и ходит как барин» (там же: 14). Дети, которые прочтут эту характеристику, вероятно, рассмеются из-за очередного сбоя в логике Светланы (почему Федор становится похожим на важного барина, сняв штаны?), а внимательные взрослые, возможно, найдут объяснение логическому кульбиту Светланы в «Повести о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем» любимого гайдаровского прозаика Гоголя:
Иван Иванович, когда сделается слишком жарко, скинет с себя и бекешу и исподнее, сам останется в одной рубашке и отдыхает под навесом и глядит, что делается во дворе и на улице. Какие у него яблони и груши под самыми окнами! (Гоголь 1937: 223)
Также отмечу, что и малолетний Федор изображается в «Голубой чашке» для того, чтобы своими репликами и своим поведением посмешить читателя:
– Я малину ем, – серьезно сообщил нам Федор. – Два куста объел. И еще буду.
– Ешь на здоровье, – пожелал я. – Только смотри, друг, не лопни.
Федор остановился, потыкал себя кулаком в живот, сердито взглянул на меня и, захватив свои штаны, вперевалку пошел к дому (Гайдар 1936: 12)
– Федор! – повторил я. – Иди сюда. Я тебе все пряники отдам.
Лопухи перестали качаться, и вскоре из чащи донеслось тяжелое сопенье.
– Я стою, – раздался наконец сердитый голос, – тут без штанов, везде крапива (там же: 14)
– <…> Федор! А ты зачем пряники в капустные грядки спрятал, я через окно все видела.
– Сейчас пойду еще дальше спрячу, – успокоил ее Федор и ушел вперевалку, как важный косолапый медвежонок. (там же: 14)
– Ешь на здоровье, – пожелал я. – Только смотри, друг, не лопни.
Федор остановился, потыкал себя кулаком в живот, сердито взглянул на меня и, захватив свои штаны, вперевалку пошел к дому (Гайдар 1936: 12)
– Федор! – повторил я. – Иди сюда. Я тебе все пряники отдам.
Лопухи перестали качаться, и вскоре из чащи донеслось тяжелое сопенье.
– Я стою, – раздался наконец сердитый голос, – тут без штанов, везде крапива (там же: 14)
– <…> Федор! А ты зачем пряники в капустные грядки спрятал, я через окно все видела.
– Сейчас пойду еще дальше спрячу, – успокоил ее Федор и ушел вперевалку, как важный косолапый медвежонок. (там же: 14)
В качестве второго шага в разговоре о роли ребенка в рассказе «Голубая чашка» обращу внимание на то очевидное обстоятельство, что Светлана девочка. Соответственно, война для нее, в отличие от самогó Гайдара и от гайдаровских мальчишек, в том числе, действующих в «Голубой чашке» – это нечто чуждое и не слишком привлекательное[3].
[3]Поэтому излишне категоричным представляется нам вывод из статьи лучшего исследователя творчества Гайдара: «Милитарная перенасыщенность советского мира интерпретируется А. Гайдаром однозначно положительно» (Литовская 2014: 94).
Вот как Светлана реагирует на военные учения:
Где-то за рощей хлопнул выстрел. Другой. И пошло и пошло.
– Бой неподалеку! – вскрикнул Пашка.
– Бой неподалеку, – сказал и я. – Это палят из винтовок. А вот слышите? Это застрочил пулемет.
– А кто с кем? – дрогнувшим голосом спросила Светлана. – Разве уже война? (там же: 6)
Неудивительно, что советские законы для Светланы, это, в первую очередь, не беспощадные законы военного времени, как, например, для Владика из «Военной тайны» или Димки из «“Р. В. С.”», а мирные милосердные установления:
Посмотрела на него Светлана. Вот так дело!
Разве же есть в Советской стране такой закон, чтобы бежал человек в колхозную лавку за солью, никого не трогал, не задевал, и вдруг бы его ни с того ни с сего драть стали?
– Идем с нами, Санька, – говорит Светлана. – Не бойся. Нам по дороге, и мы за тебя заступимся (там же: 5)
Разве же есть в Советской стране такой закон, чтобы бежал человек в колхозную лавку за солью, никого не трогал, не задевал, и вдруг бы его ни с того ни с сего драть стали?
– Идем с нами, Санька, – говорит Светлана. – Не бойся. Нам по дороге, и мы за тебя заступимся (там же: 5)
Собственное жизненное кредо девочка формулирует в «Голубой чашке», хотя и смешным детским языком (сравните с примерами выше), но очень четко: «– Надо без дранья мириться, – убежденно сказала Светлана. – Надо сцепиться мизинцами, поплювать на землю и сказать: “Ссор, ссор никогда, а мир, мир навсегда”. Ну, сцепляйтесь» (там же: 8).
Даже в, казалось бы, кровожадном финале песни Светланы о мышах, разбивших голубую чашку и котенке, который их прогонит, девочка сначала предлагает мышам спрятаться в норах, и уже только если мыши не уберутся, их будет ждать расправа:
Даже в, казалось бы, кровожадном финале песни Светланы о мышах, разбивших голубую чашку и котенке, который их прогонит, девочка сначала предлагает мышам спрятаться в норах, и уже только если мыши не уберутся, их будет ждать расправа:
Мы вернулись
И что-то такое
С собой несем...
Оно мяукает,
Оно прыгает
И пьет из блюдечка молоко,
Теперь убирайтесь.
В черные дыры,
Или ОНО вас разорвет
На куски, на десять кусков,
На двадцать кусков,
На сто миллионов
Лохматых кусков.
(там же: 15)
И что-то такое
С собой несем...
Оно мяукает,
Оно прыгает
И пьет из блюдечка молоко,
Теперь убирайтесь.
В черные дыры,
Или ОНО вас разорвет
На куски, на десять кусков,
На двадцать кусков,
На сто миллионов
Лохматых кусков.
(там же: 15)
Благодаря постоянному и определяющему общую атмосферу рассказа присутствию Светланы в «Голубой чашке» смягчаются почти все главные темы тревожного творчества Гайдара.
В частности, учения Красной армии, в отличие от «Четвертого блиндажа», где дети подверглись в это время смертельной опасности, предстают в «Голубой чашке» подобием зрелищной массовой игры. Изображая их, Гайдар находит место и для юмористической детали:
В частности, учения Красной армии, в отличие от «Четвертого блиндажа», где дети подверглись в это время смертельной опасности, предстают в «Голубой чашке» подобием зрелищной массовой игры. Изображая их, Гайдар находит место и для юмористической детали:
Старик <…> достал кривую трубку, набил ее табаком и стал раскуривать. Он раскуривал долго, то приминая табак пальцем, то ворочая его гвоздем, как кочергой в печке. Наконец, раскурил и тогда так запыхтел и задымил, что сидевший на дереве красноармеец зачихал и кашлянул (там же: 8)
и для трогательной подробности:
Обламывая тяжелыми сапогами сучья, слез красноармеец-наблюдатель с дерева. Быстро погладил Светлану, сунул ей в руку три блестящих желудя и торопливо убежал, сматывая на катушку тонкий телефонный провод (там же).
Сразу же отмечу, что эта деталь («три блестящих желудя») идеально вписывается в целый ряд природных мотивов «Голубой чашки», при помощи которых Гайдар показывает читателю окружающий героев мир как оптимистический, где хорошее неизменно одерживает верх над плохим. Приведу здесь только один, но весьма выразительный пример:
…забеспокоились мы, когда потемнело небо. Сбежались отовсюду облака. Окружили они, поймали и закрыли солнце. Но оно упрямо вырывалось то в одну, то в другую дыру. Наконец, вырвалось и засверкало над огромной землей еще горячей и ярче (там же: 9)[1].
[4] Подобных микроэпизодов (плохое сменяется хорошим) много в «Голубой чашке», и это, конечно, неслучайно, поскольку предсказывает и дублирует развитие главной фабулы рассказа. Вот еще один пример: «Шли мы долго, часто останавливались, отдыхали и рвали цветы. Потом, когда тащить надоедало, оставляли букеты на дороге. А один букет бросили старой бабке в телегу. Испугалась сначала бабка, не разобравши, что такое, и погрозила нам кулаком. Но потом увидала, улыбнулась и кинула с воза три больших зеленых огурца» (там же: 9).
С лейтмотивной для Гайдара темой боеготовности Красной армии в его произведениях всегда соседствует и часто переплетается тема внешних и внутренних врагов. Возникает она и в «Голубой чашке», но быстро и радикально смягчается, прежде всего, из-за решительного вмешательства Светланы.
Как мы помним, в «Военной тайне» описывается жестокая драка Владика с «незнакомым парнишкой» (Гайдар 1972: 228), который обозвал товарища Владика «жидом». В «Голубой чашке» разворачивается цепочка схожих эпизодов. Санька Карякин, обозлившись во время игры в чижа на Берту, дочь еврея-рабочего, убежавшего в Советский Союз от Гитлера (отягчающее вину Саньки обстоятельство!), кричит ей: «Дура, жидовка! Чтоб ты в свою Германию обратно провалилась!» (Гайдар 1936: 6). За это пионер Пашка Букамашкин, подобно Владику, преследует Саньку – называет его «фашистом» и закидывает комьями земли. Однако итоге выясняется, что конфликт между Санькой и Бертой уже давно погашен, и что сам Пашка вел себя после ссоры с приятелем не вполне принципиально:
Как мы помним, в «Военной тайне» описывается жестокая драка Владика с «незнакомым парнишкой» (Гайдар 1972: 228), который обозвал товарища Владика «жидом». В «Голубой чашке» разворачивается цепочка схожих эпизодов. Санька Карякин, обозлившись во время игры в чижа на Берту, дочь еврея-рабочего, убежавшего в Советский Союз от Гитлера (отягчающее вину Саньки обстоятельство!), кричит ей: «Дура, жидовка! Чтоб ты в свою Германию обратно провалилась!» (Гайдар 1936: 6). За это пионер Пашка Букамашкин, подобно Владику, преследует Саньку – называет его «фашистом» и закидывает комьями земли. Однако итоге выясняется, что конфликт между Санькой и Бертой уже давно погашен, и что сам Пашка вел себя после ссоры с приятелем не вполне принципиально:
– Неправда! – шмыгнув носом, завопил оскорбленный Санька. – Я не фашист, а весь советский. А девчонка Берта давно уже не сердится и вчера откусила от моего яблока больше половины. А этот Пашка всех мальчишек на меня натравливает. Сам ругается, а у меня пружину зажулил. Раз я фашист, – значит, и пружина фашистская. А он из нее для своей собаки какую-то качалку сделал. Я ему говорю: «Давай, Пашка, помиримся», – а он говорит: «Сначала отдеру, а потом помиримся» (там же: 8).
Но еще раньше и тоже так, что читателю делается смешно, ноту примирения в конфликт между пионером и «фашистом» вносит Светлана:
Засмеялась Светлана, и что-то жалко ей стало этого несчастного Саньку, которого все хотят выдрать.
– Папа, – сказала она мне. — А, может быть, он вовсе и не такой уж фашист? Может быть, он просто дурак? Ведь, правда, Санька, что ты просто дурак? – спросила Светлана и ласково заглянула ему в лицо (там же: 6)[1]
– Папа, – сказала она мне. — А, может быть, он вовсе и не такой уж фашист? Может быть, он просто дурак? Ведь, правда, Санька, что ты просто дурак? – спросила Светлана и ласково заглянула ему в лицо (там же: 6)[1]
[5] Еще и поэтому Светлана начинает одну из своих последующих реплик (процитированную мною выше) с отрицания собственного предположения: «Это не дурак».
В результате ключевое для прозы Гайдара противостояние своих и чужих в «Голубой чашке» не работает. Каждый персонаж этого произведения может сказать о себе – я «весь советский» (если не считать закадровых персонажей – белогвардецев одного эпизода, о котором мы поговорим дальше).
Весьма показателен для общей интонации «Голубой чашки» единственный ее крохотный абзац, в котором пламенный атеист Гайдар затрагивает религиозную тему. Путешествуя, Светлана и ее отец встречают священника. Рассказывается об этом так: «Увидали мы и попа в длинном черном халате. Посмотрели ему вслед и подивились тому, что остались еще на свете чудаки – “божьи люди”» (там же: 9). Не «классовые враги», не «замаскировавшиеся вредители», а (почти с сочувствием) – «чудаки»[6]! Такой степени мягкости по отношению к инакомыслящим Гайдар-писатель до сих пор не проявлял и после «Голубой чашки» больше не проявит.
Весьма показателен для общей интонации «Голубой чашки» единственный ее крохотный абзац, в котором пламенный атеист Гайдар затрагивает религиозную тему. Путешествуя, Светлана и ее отец встречают священника. Рассказывается об этом так: «Увидали мы и попа в длинном черном халате. Посмотрели ему вслед и подивились тому, что остались еще на свете чудаки – “божьи люди”» (там же: 9). Не «классовые враги», не «замаскировавшиеся вредители», а (почти с сочувствием) – «чудаки»[6]! Такой степени мягкости по отношению к инакомыслящим Гайдар-писатель до сих пор не проявлял и после «Голубой чашки» больше не проявит.
[6] В окончательной редакции «Голубой чашки» этот фрагмент вольно или невольно, но стал еще мягче, поскольку из него ушло издевательское словосочетание «божьи люди»: «Увидали мы и попа в длинном черном халате. Посмотрели ему вслед и подивились тому, что остались еще на свете чудаки-люди» (там же: 283).