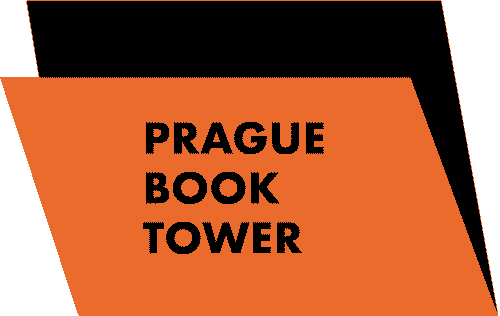Олег Лекманов
Аркадий Гайдар от «синих звезд» до «голубой чашки»
(1934 – 1936)
(1934 – 1936)
6
Общая терапевтическая направленность «Голубой чашки» позволила Гайдару в этом рассказе впервые после совсем ранних, незрелых вещей открыто затронуть эротическую тему, которая едва намечалась в рассказе «Пусть светит» и повести «Военная тайна».
Гайдар решился на чрезвычайно смелый шаг. Третьей точкой любовного треугольника, построенного ревнивым воображением рассказчика, становится в рассказе «Марусин товарищ – полярный летчик» (там же: 3), то есть сакральная для тогдашней советской мифологии фигура[1].
Гайдар решился на чрезвычайно смелый шаг. Третьей точкой любовного треугольника, построенного ревнивым воображением рассказчика, становится в рассказе «Марусин товарищ – полярный летчик» (там же: 3), то есть сакральная для тогдашней советской мифологии фигура[1].
[1] О полярных летчиках как сакральных фигурах сталинского времени см., например: Гюнтер 2000: 743–750.
Этот приехавший в гости к жене рассказчика летчик в зачине «Голубой чашки» разрушает совместные семейные планы:
И как раз когда собирались мы втроем идти гулять, пришел к Марусе ее товарищ – полярный летчик. Они долго сидели в саду, под вишнями. А мы со Светланой ушли во двор к сараю и с досады взялись мастерить деревянную вертушку (там же).
Затем из-за полярного летчика в этот вечер отменяется семейный ритуал укладывания Светланы: «Когда стемнело, Маруся крикнула, чтобы Светлана выпила молока и ложилась спать, а сама пошла проводить летчика до вокзала. Но мне без Маруси стало скучно, да и Светлана одна в пустом доме спать не захотела» (там же).
А после того, как Маруся обвиняет Светлану и рассказчика в том, что они разбили ее любимую голубую чашку, отец и дочь решают покинуть дом:
А после того, как Маруся обвиняет Светлану и рассказчика в том, что они разбили ее любимую голубую чашку, отец и дочь решают покинуть дом:
– Что ж! – говорю я Светлане. – С крыши нас с тобой вчера согнали. Банку из-под керосина у нас недавно отняли. За какую-то голубую чашку напрасно выругали. Разве же это хорошая жизнь?
– Конечно, – говорит Светлана, – жизнь совсем плохая.
– А давай-ка, Светлана, надень ты свое розовое платье. Возьмем мы из-за печки мою походную сумку, положим туда твое яблоко, мой табак, спички, нож, булку и уйдем из этого дома куда глаза глядят (там же: 4)
– Конечно, – говорит Светлана, – жизнь совсем плохая.
– А давай-ка, Светлана, надень ты свое розовое платье. Возьмем мы из-за печки мою походную сумку, положим туда твое яблоко, мой табак, спички, нож, булку и уйдем из этого дома куда глаза глядят (там же: 4)
В этом фрагменте упоминание о табаке и спичках в походной сумке, скорее всего, отсылает взрослого читателя к очень известным строкам из стихотворения Эдуарда Багрицкого «Разговор с комсомольцем Н. Дементьевым» (1927):
А в походной сумке –
Спички и табак.
(Багрицкий 1964: 95)[2],
Спички и табак.
(Багрицкий 1964: 95)[2],
[2] Сравните в воспоминаниях И. Халтурина о литературных вкусах Гайдара: «Я помню, он очень любил “Разгром” Фадеева и стихи Багрицкого» (Воспоминания 2019: 256).
а упоминание о Светланином яблоке – всех без исключения читателей Гайдара – к символу детского счастья из «Военной тайны» – красному яблоку; тем более, что дальше в «Голубой чашке» цвет яблока будет уточнен: «Есть холодная вода, красные яблоки, белый хлеб и желтые пряники» (Гайдар 1936: 10).
Хотя формальным поводом ухода Светланы и ее отца из дома послужили отнятая банка из-под керосина, приказание спуститься с крыши и, как последняя капля, голословное обвинение в порче голубой чашки, подлинной причиной без сомнения стало предпочтение, которое Маруся оказала не семье, а героическому полярному летчику. Поэтому на протяжении всего путешествия образы, связанные с летчиком, проникают в повествование. Сначала – контрабандой: отец, весело изобличая дочь во вранье, спрашивает ее, не видела ли она во время игры в подземное царство «белого медведя на льдине» (там же: 9); затем, в репликах самóй Светланы полярный летчик упоминается прямо:
Хотя формальным поводом ухода Светланы и ее отца из дома послужили отнятая банка из-под керосина, приказание спуститься с крыши и, как последняя капля, голословное обвинение в порче голубой чашки, подлинной причиной без сомнения стало предпочтение, которое Маруся оказала не семье, а героическому полярному летчику. Поэтому на протяжении всего путешествия образы, связанные с летчиком, проникают в повествование. Сначала – контрабандой: отец, весело изобличая дочь во вранье, спрашивает ее, не видела ли она во время игры в подземное царство «белого медведя на льдине» (там же: 9); затем, в репликах самóй Светланы полярный летчик упоминается прямо:
И вдруг раздался мощный рокочущий гул: воздух задрожал, и блестящий самолет, как буря, промчался над вершинами тихих яблонь.
Вздрогнула Светлана, вспорхнула бабочка, слетел с забора желтый петух, с криком промелькнула поперек неба испуганная галка — и все стихло.
– Это тот самый летчик пролетел, – с досадой сказала Светлана, — это тот, который приходил к нам вчера.
– Почему же тот? — приподнимая голову опросил я. – Может быть, это совсем другой.
– Нет, тот самый. Я сама вчера слышала, как он сказал маме, что улетает завтра далеко и насовсем. Я ела красный помидор, а мама ему ответила: «Ну прощайте. Счастливый путь» (там же: 12)
Вздрогнула Светлана, вспорхнула бабочка, слетел с забора желтый петух, с криком промелькнула поперек неба испуганная галка — и все стихло.
– Это тот самый летчик пролетел, – с досадой сказала Светлана, — это тот, который приходил к нам вчера.
– Почему же тот? — приподнимая голову опросил я. – Может быть, это совсем другой.
– Нет, тот самый. Я сама вчера слышала, как он сказал маме, что улетает завтра далеко и насовсем. Я ела красный помидор, а мама ему ответила: «Ну прощайте. Счастливый путь» (там же: 12)
А в последний раз полярный летчик появляется в сáмом финале «Голубой чашки», чтобы уже «насовсем» исчезнуть не только из рассказа, но, очевидно, с жизненного горизонта семьи тоже: «Прогудел и скрылся в тучах полуночный летчик» (там же: 15).
И именно вслед за этим и, кажется, в связи с этим исчезновением следует главный вывод «Голубой чашки»: «А жизнь, товарищи... была совсем хорошая!» (там же)[3]. С глаз долой, из сердца вон.
И именно вслед за этим и, кажется, в связи с этим исчезновением следует главный вывод «Голубой чашки»: «А жизнь, товарищи... была совсем хорошая!» (там же)[3]. С глаз долой, из сердца вон.
[3] Сравните с финальной репликой Дергача из повести «На графских развалинах»: «И как хорошо становится жить» (Гайдар 1973: 256).
Но зачем Гайдару понадобилось выбирать столь идеологически сильного соперника для рассказчика «Голубой чашки»?
Ответ, который хочется дать: чтобы утвердить приоритет семейных ценностей над общественными, государственными; тем более, что в рассказе обнаруживается фрагмент, в котором природное (тесно связанное в «Голубой чашке» с семейным) выигрывает у праздничного, государственного: «тысячами, ярче, чем флаги в Первое Мая – синие, красные, голубые, лиловые, окружали елку душистые цветы» (там же: 9).
Однако такой ответ противоречил бы не только пафосу всего творчества Гайдара и его писательской идеологии, но и логике развития семейной темы «Голубой чашки» в ее развитии.
Наметим основные этапы этого развития.
В начале «Голубой чашки» отец девочки ведет себя на редкость инфантильно, а его желание залезть на крышу вместе с дочерью можно расценить, как нелепую попытку подражать подлинному покорителю неба – полярному летчику. Именно отец предлагает дочери в знак протеста против строгости матери покинуть дом и продолжает эгоистически гнуть свою линию даже тогда, когда девочка уже явно готова и хочет вернуться:
Ответ, который хочется дать: чтобы утвердить приоритет семейных ценностей над общественными, государственными; тем более, что в рассказе обнаруживается фрагмент, в котором природное (тесно связанное в «Голубой чашке» с семейным) выигрывает у праздничного, государственного: «тысячами, ярче, чем флаги в Первое Мая – синие, красные, голубые, лиловые, окружали елку душистые цветы» (там же: 9).
Однако такой ответ противоречил бы не только пафосу всего творчества Гайдара и его писательской идеологии, но и логике развития семейной темы «Голубой чашки» в ее развитии.
Наметим основные этапы этого развития.
В начале «Голубой чашки» отец девочки ведет себя на редкость инфантильно, а его желание залезть на крышу вместе с дочерью можно расценить, как нелепую попытку подражать подлинному покорителю неба – полярному летчику. Именно отец предлагает дочери в знак протеста против строгости матери покинуть дом и продолжает эгоистически гнуть свою линию даже тогда, когда девочка уже явно готова и хочет вернуться:
Вдруг Светланка притихла и задумалась. А тут еще, пока мы ели, вдруг опустился на ветку серый чиж и что-то такое зачирикал.
Это был смелый чиж. Он сидел прямо на против нас, подпрыгивал, чирикал и не улетал.
– Это знакомый чиж, – твердо решила Светлана. – Я его видела, когда мы с мамой качались в саду на качелях. Она меня высоко качала. Фють!.. Фють!.. И зачем он к нам прилетел так далеко?
– Нет! Нет! – решительно ответил я. – Это совсем другой чиж. Ты ошиблась, Светлана. У того чижа на хвосте не хватает перьев, которые выдрала ему хозяйкина одноглазая кошка. Тот чиж потолще, и он чирикает совсем не таким голосом.
– Нет, тот самый! – упрямо повторила Светлана. – Я знаю. Это он за нами прилетел так далеко.
– «Гей, гей! – печальным басом пропел я. – Мы не разбивали голубой чашки. И мы решили уйти на совсем далеко.
Сердито чирикнул серый чиж. Ни один цветок из целого миллиона не качнулся и не кивнул головой. И нахмурившаяся Светлана строго сказала:
– У тебя не такой голос. И люди так не поют. А только медведи.
Молча собрались мы. Вышли из рощи. И вот мне на счастье засверкала под горой прохладная голубая река.
И тогда я поднял Светлану. И когда она увидала песчаный берег, зеленые острова, то позабыла все на свете и, радостно захлопав в ладоши, закричала:
– Купаться! Купаться! Купаться! (там же: 10)
Это был смелый чиж. Он сидел прямо на против нас, подпрыгивал, чирикал и не улетал.
– Это знакомый чиж, – твердо решила Светлана. – Я его видела, когда мы с мамой качались в саду на качелях. Она меня высоко качала. Фють!.. Фють!.. И зачем он к нам прилетел так далеко?
– Нет! Нет! – решительно ответил я. – Это совсем другой чиж. Ты ошиблась, Светлана. У того чижа на хвосте не хватает перьев, которые выдрала ему хозяйкина одноглазая кошка. Тот чиж потолще, и он чирикает совсем не таким голосом.
– Нет, тот самый! – упрямо повторила Светлана. – Я знаю. Это он за нами прилетел так далеко.
– «Гей, гей! – печальным басом пропел я. – Мы не разбивали голубой чашки. И мы решили уйти на совсем далеко.
Сердито чирикнул серый чиж. Ни один цветок из целого миллиона не качнулся и не кивнул головой. И нахмурившаяся Светлана строго сказала:
– У тебя не такой голос. И люди так не поют. А только медведи.
Молча собрались мы. Вышли из рощи. И вот мне на счастье засверкала под горой прохладная голубая река.
И тогда я поднял Светлану. И когда она увидала песчаный берег, зеленые острова, то позабыла все на свете и, радостно захлопав в ладоши, закричала:
– Купаться! Купаться! Купаться! (там же: 10)
На современном языке такое поведение взрослого по отношению к ребенку называется манипуляторством. Умная Светлана чувствует, что ее вынуждают делать то, чего она уже не хочет и поэтому сердится на отца.
Едва ли не впервые в «Голубой чашке» отец начинает вести себя, как по-настоящему взрослый, ответственный человек в следующем за только что приведенным эпизоде рассказа. Путники решают сократить путь к речке и едва не застревают в болоте. Отец сначала неоправданно сердится на дочь, но потом берет себя в руки и помогает ей пробраться к воде. Пробуждению в мальчике мужа способствует его воспоминание о своем давнем боевом опыте:
Едва ли не впервые в «Голубой чашке» отец начинает вести себя, как по-настоящему взрослый, ответственный человек в следующем за только что приведенным эпизоде рассказа. Путники решают сократить путь к речке и едва не застревают в болоте. Отец сначала неоправданно сердится на дочь, но потом берет себя в руки и помогает ей пробраться к воде. Пробуждению в мальчике мужа способствует его воспоминание о своем давнем боевом опыте:
Я опять свернул в чащу и рассердился. Что это? Разве сравнить это поганое болотце с бескрайними камышами широкого Приднепровья или с угрюмыми плавнями Ахтырки, где громили и душили мы когда-то белый врангелевский десант. С кочки на кочку, от куста к кусту. Раз – и по пояс в воду. Два— и захрустела сухая осина. Вслед за осиной полетело в грязь трухлявое бревно. Тяжело плюхнулся туда же гнилой пень. Вот и опора. Вот еще одна лужа. А вот он, и сухой берег (там же: 11)
А для того, чтобы окончательно реабилитировать героя в глазах читателя Гайдару понадобилась небольшая вставная новелла. По просьбе дочери отец рассказывает ей (вероятно, далеко не в первый раз[4]) историю своего знакомства с матерью. Оно произошло в эпоху Гражданской войны, когда отец служил в Красной армии, выбившей белых из города, где жила Маруся. «Тюрьмы раскрыли и рабочих выпустили» (там же: 13), в том числе, и отца Маруси. «А матери у ней давно уже не было» (там же: 12). Во время этой военной операции будущий отец девочки серьезно пострадал: «Грудь у меня немного прострелена. И плечо болит: когда с коня падал, о камень ударился» (там же: 13).
[4] Ведь рассказ отца уже был предсказан в песне, которую поет Светлана ранее: «Красная армия, самая Красная, / А белая армия – самая белая» (там же: 10).
Рассказывая Светлане, по ее инициативе, историю знакомства с матерью, отец девочки в заочном соревновании с полярным летчиком не только сравнялся с ним в героизме, но и превзошел его в той части своей биографии, которая лично, непосредственно касалась Маруси. Поэтому сразу же после того, как отец рассказал дочери историю о спасении Маруси и ее отца, он с облегчением перестает ревновать жену и принимает решение вернуться домой:
Мы не разбивали голубой чашки. Это, может быть, сама Маруся что-нибудь разбила. Но мы ее простили. Мало ли кто на кого понапрасну плохое подумает? Однажды и Светлана на меня подумала. Да я и сам на Марусю плохое подумал тоже. И я пошел к хозяйке Валентине, чтобы спросить, нет ли нам к дому дороги поближе (там же: 14)
Вернувшись к жене, отец окончательно перестает «на Марусю плохое» думать, и тогда, наконец, голубая чашка из символа утраченного семейного счастья превращается в его сознании в отслуживший свое предмет домашнего обихода: «– Нет, – твердо решил я, отбрасывая носком сапога валявшиеся черепки голубой чашки. Это все только серые злые мыши. И мы не разбивали. И Маруся ничего не разбивала тоже» (там же: 15).
В качестве третьего, заключительного шага в разговоре о роли ребенка в рассказе «Голубая чашка» еще раз подчеркну, что затеяла разговор о героическом знакомстве отца с матерью мудрая Светлана. Самое интересное состоит в том, что для достижения своей цели (возвращение домой) дочка воздействует на отца не только пробудив в нем воспоминания о том, что он не инфантильный подкаблучник, а подлинный герой, но и в буквальном смысле волшебно преобразившись, пусть на несколько мгновений, в мать:
В качестве третьего, заключительного шага в разговоре о роли ребенка в рассказе «Голубая чашка» еще раз подчеркну, что затеяла разговор о героическом знакомстве отца с матерью мудрая Светлана. Самое интересное состоит в том, что для достижения своей цели (возвращение домой) дочка воздействует на отца не только пробудив в нем воспоминания о том, что он не инфантильный подкаблучник, а подлинный герой, но и в буквальном смысле волшебно преобразившись, пусть на несколько мгновений, в мать:
– Папка, – взволнованно спросила тогда Светлана. – Это ведь мы не по правде ушли из дому? Ведь она нас любит. Мы только походим-походим и опять придем.
– Откуда ты знаешь, что любит? Может быть, тебя еще любит, а меня уже нет.
– Ой, вре-ешь! – покачала головой Светлана. – Я вчера ночью проснулась, смотрю: мама отложила книгу, повернулась к тебе и долго на тебя смотрит.
– Эко дело, что смотрит! Она и в окошко смотрит, на всех людей смотрит. Есть глаза, вот и смотрит.
– Ой, нет! – убежденно возразила Светлана. – Когда в окошко, то смотрит совсем не так, а вот как...
Тут Светлана вздернула тоненькие брови, склонила набок голову, поджала губы равнодушно взглянула на проходившего мимо петуха.
– А когда любят, смотрят не так.
Как будто бы сияние озарило голубые Светланкины глаза, вздрогнули опустившиеся ресницы, и милый задумчивый марусин взгляд упал мне на лицо (там же: 14)
– Откуда ты знаешь, что любит? Может быть, тебя еще любит, а меня уже нет.
– Ой, вре-ешь! – покачала головой Светлана. – Я вчера ночью проснулась, смотрю: мама отложила книгу, повернулась к тебе и долго на тебя смотрит.
– Эко дело, что смотрит! Она и в окошко смотрит, на всех людей смотрит. Есть глаза, вот и смотрит.
– Ой, нет! – убежденно возразила Светлана. – Когда в окошко, то смотрит совсем не так, а вот как...
Тут Светлана вздернула тоненькие брови, склонила набок голову, поджала губы равнодушно взглянула на проходившего мимо петуха.
– А когда любят, смотрят не так.
Как будто бы сияние озарило голубые Светланкины глаза, вздрогнули опустившиеся ресницы, и милый задумчивый марусин взгляд упал мне на лицо (там же: 14)
Таким образом, роль ребенка-девочки в «Голубой чашке» заключается еще и в том, что она – маленькая женщина, чьи миролюбие, мудрость, веселость, а иногда и строгость:
Чуть-чуть смутилась Светлана. Укоризненно качнула головой и, совсем, как Маруся, прищурив глаза, оказала:
– Спрятался и подслушивает. Стыдно, дорогой товарищ! (там же: 10)[5]
– Спрятался и подслушивает. Стыдно, дорогой товарищ! (там же: 10)[5]
несут в тревожный мужской мир[6] радость, порядок и умиротворение.
[5] Сравните с укоризненной и здравомыслящей репликой Маруси в начале рассказа: «– Чашки, – говорит она, – неживые: ног у них нет. На пол они прыгать не умеют. А кроме вас двоих в чулан никто вчера не лазил. Разбили и не сознаетесь. Стыдно, товарищи!» (там же: 3). Также обратим внимание на цветовую перекличку розового платья Светланы в начале рассказа (там же: 4) и красного платья Маруси в финале (там же: 15).
[6] О тревожности, как едва ли не основном свойстве окружающего мира очень хорошо написано в работе: Литовская 2014: 87–104.
[6] О тревожности, как едва ли не основном свойстве окружающего мира очень хорошо написано в работе: Литовская 2014: 87–104.